– С иностранного языка. Я лингвист, владею английским и китайским, и в 2017 году одну компанию срочно заинтересовал кто-то, кто сможет переводить с английского на китайский. У них была большая группа китайских гостей, и им меня порекомендовали. Это был мой первый контракт – и сразу на атомном ледоколе «50 лет Победы». Курс – на Северный полюс. Это было очень сложно – и физически, и психологически. Люди ходят по залу, тебя качает, нужно всё понимать с первого раза и тут же говорить на другом языке. Но я привык. И оказался на Северном полюсе – как будто в подарок.
– Вы согласились сразу?
– Это звучит странно, но да. Принял решение быстро, хотя я до этого никогда не работал в море. Переводчиком я был – но не на корабле, который раскачивает так, что микрофон трудно удержать в руках. А здесь я должен был слушать лекцию на английском, стоя позади лектора, и тут же синхронно переводить на китайский, минуя родной язык.
Поначалу я всё время думал: зачем я это делаю, как меня угораздило... Но потом – втянулся. А вот когда мы дошли до Северного полюса, я понял: я влюбился. В экстремальность, в сложность, в красоту арктического региона. Это был мой первый рейс. Но тогда я уже понимал, что не последний.
С тех пор прошло больше семи лет, и я всё ещё здесь – между Арктикой и Антарктикой. И, пожалуй, это лучшая работа, которую можно придумать!
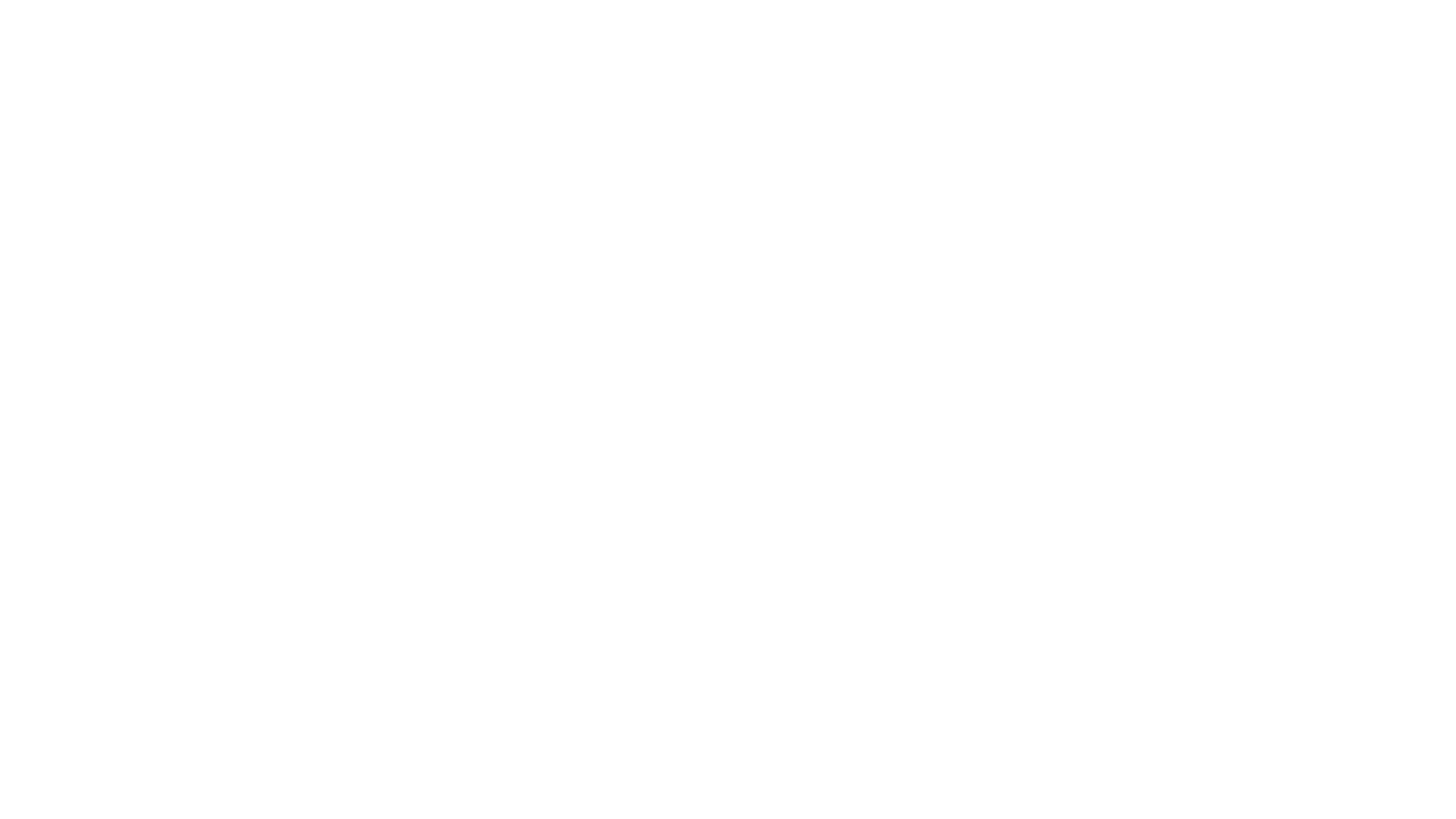
– В тот же год меня позвали в Антарктиду. Там я работал уже не просто переводчиком, а гидом и лектором. Читал лекции по истории полярных регионов: и Арктики, и Антарктики. На русском, английском, иногда – на китайском.
А ещё сопровождал гостей, помогал на высадках, вел так называемые рекапы – краткие рассказы о том, что мы увидели за день. Когда появились права на управление лодкой – водил «зодиак». То есть стал полноценным членом экспедиционной команды.
– О чём именно вы рассказываете?
– О настоящих героях, забытых экспедициях, ошибках, которые стоили жизни, и о том, как наука двигалась вперёд, рискуя всем. Я – кандидат исторических наук, и для меня история полярных исследований – это живая ткань, не что-то академическое.
Параллельно с этой работой я начал изучать и самих людей – как лингвист и антрополог. Ведь ты каждый день встречаешь представителей десятков культур. Это тоже часть Арктики – культурной, человеческой.
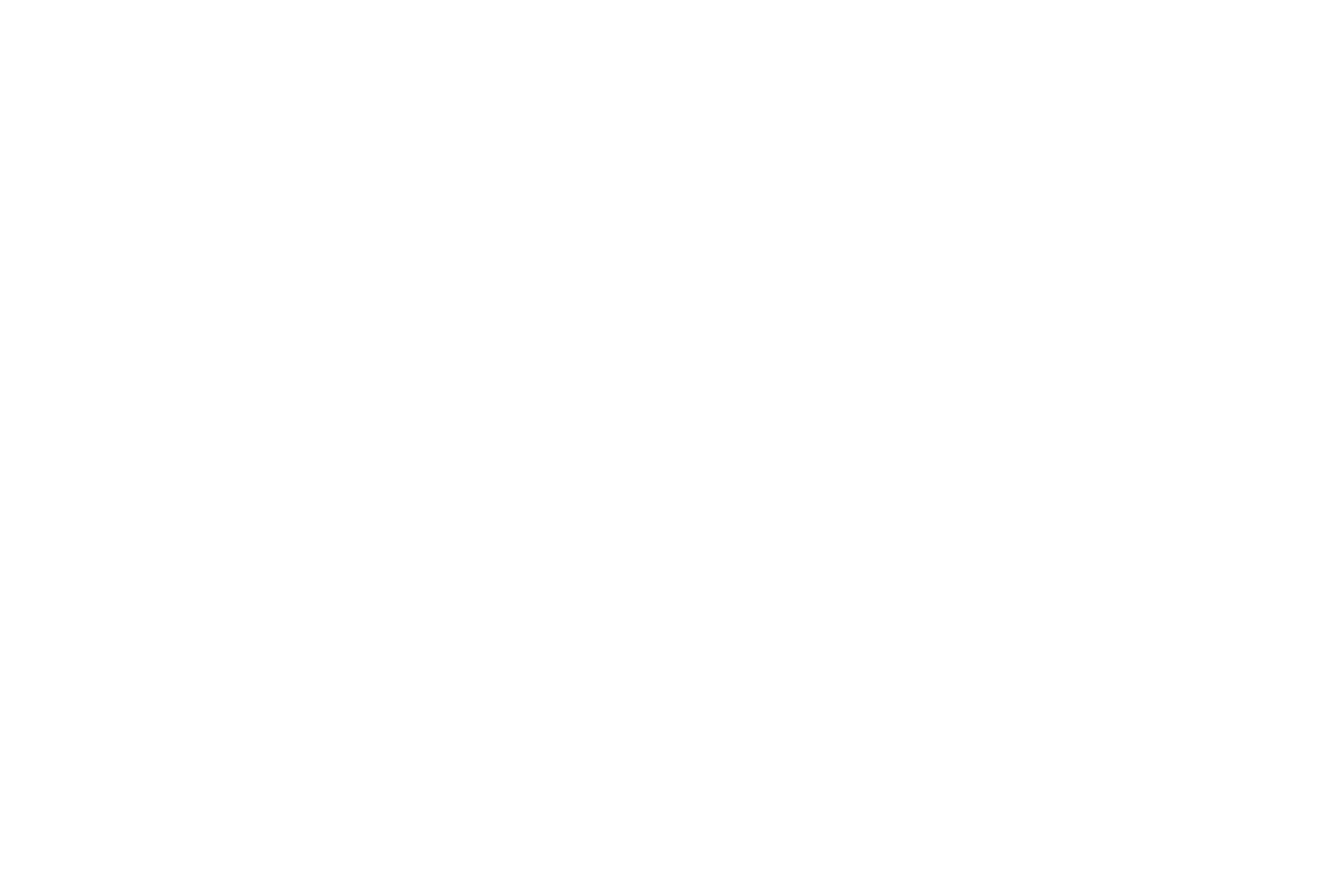
– Безусловно. Люди, которые приходят сюда сейчас, очень разные. Кто-то – романтик, кто-то – коллекционер впечатлений, кто-то – натуралист. Раньше таких было меньше. Сейчас путешествие стало доступнее, но это не значит, что оно стало проще.
Кто-то приезжает и думает, что сейчас Арктика покажет им шоу: белого медведя на айсберге, китов и северное сияние в один день. А потом идёт дождь. Или накрывает туман. Или лёд не даёт высадиться. И человек разочарован. А потом – вдруг – он начинает замечать игру света на скалах. Или видит, как полярная чайка делает круг над льдиной. И понимает: вот, настоящее, вот природа в своей нетронутой красоте.
– Как вы сами воспринимаете эту землю?
– Арктика учит скромности. Здесь всё сложнее. Холоднее. Непредсказуемее. Но именно это и есть её главная сила – ты не можешь её подстроить под себя. Она такая, какая есть. И ты можешь либо принять её, либо уехать.
Я стараюсь делиться этим с гостями. Рассказывать не только про события, но и про чувства. Каково это – стоять на берегу Гренландии, где нет ни одного человека. Или плыть в «зодиаке» вдоль ледника, и слышать, как он дышит. Такие моменты невозможно придумать. Их можно только прожить.
– А как вы готовитесь к каждой поездке?
– У нас есть большая подготовительная работа: маршруты, карты, погодные окна. Но всё может измениться в любой момент. Поэтому каждый в команде должен быть гибким, спокойным, и уметь действовать в неожиданной ситуации.
Я готовлюсь как историк – перечитываю дневники участников экспедиций, биографии. Люблю брать с собой художественные книги: «Арктические фантазии» или, например, Шекли. Потому что полярная тема – она и научная, и философская.
Экспедиция стартовала из посёлка Ню-Олесунн (Ny Alesund) с острова Шпицберген. Именно там была возведена специальная причальная башня для дирижабля — уникальное сооружение, которое позволило осуществить старт в столь суровых условиях.
-- Башню строили на берегу, преодолевая холод, ветер и вечную мерзлоту. Всё ради того, чтобы поднять в воздух аппарат длиной 106 метров, способный держаться в небе сутками. Башня напоминала металлическую мачту и служила единственной опорой для носовой части дирижабля во время стоянки. Она хорошо сохранилась до нашего времени.
-- Полёт длился около 72 часов. Дирижабль прошёл от Шпицбергена через полюс до Аляски, преодолев более 5000 километров. Это было триумфом инженерии и отваги того времени.
-- Интересный факт: дирижабль Norge был построен в Италии и официально принадлежал ВВС этой страны, но в проекте участвовали представители трёх наций — Италии, Норвегии и США. Именно поэтому на борту развевались три флага. Этот полёт стал первой подтверждённой экспедицией на Северный полюс и символом технического прогресса в эпоху великих географических открытий.
– Безусловно, героическую эпоху: конец XIX – начало XX века. Когда всё ещё шли в Антарктику на парусниках. Когда пытались достичь Южного полюса, не зная, чем кормить упряжку или как согреться ночью. Скотт, Амундсен, Шеклтон. Даже японская экспедиция была – почти неизвестная. Они не имели ни оборудования, ни опыта, но тоже стремились быть первыми.
– Его экспедиция – классический пример мужества, несмотря на провал. В 1914 году, в самом начале Первой мировой войны, он отправился в Антарктиду, чтобы пересечь континент. Его предупреждали, что судно не готово. Оно действительно не выдержало льда и затонуло в море Уэдделла.
Но команда выжила. Они построили убежище из лодок, и Шеклтон с пятью людьми на одной шлюпке две недели пересекал бушующее море, чтобы дойти до Южной Георгии и вызвать помощь. Все члены команды выжили. Никто не погиб.
– Он совершил ошибку, поспешив начать экспедицию, но спас всех, кто ему доверился.
– Это была стратегия, лидерство и огромная сила духа. Он не достиг цели, но стал легендой – за то, что не оставил никого из своих. Такие истории и есть подлинная ценность полярной истории.
– Конечно. Самый известный пример – экспедиция Фритьофа Нансена. Он считал, что если заморозить судно во льду, течение отнесёт его к Северному полюсу. Он специально заморозил «Фрам» – и ждал. Но течение не повело его туда. Они дрейфовали, но не в ту сторону. В итоге он покинул корабль и пешком пытался добраться до суши.
– Значит, теория подвела?
– Да. Это пример того, как даже гении ошибаются. Наука на границе с выживанием – это всегда риск. Но именно такие истории и дают нам право называться цивилизацией, которая исследует.
– Первое – спешите! Льда становится меньше. Через 20 лет многие маршруты, которые мы проходим сейчас, будут уже без айсбергов, без дрейфующих льдов. Просто потому, что ледники отступают, тают, температура повышается.
Второе – почувствуйте, что такое экспедиция. Это не круиз. Это не ресторан на воде. Это – доверие команде, слаженность работы, уникальные наблюдения и тишина льдов. Здесь рождается новый взгляд на планету.
Третье – испытайте себя. Выйдите на «зодиаке» в туман. Подышите этим воздухом. Почувствуйте качку. Это не про дискомфорт. Это про жизнь.
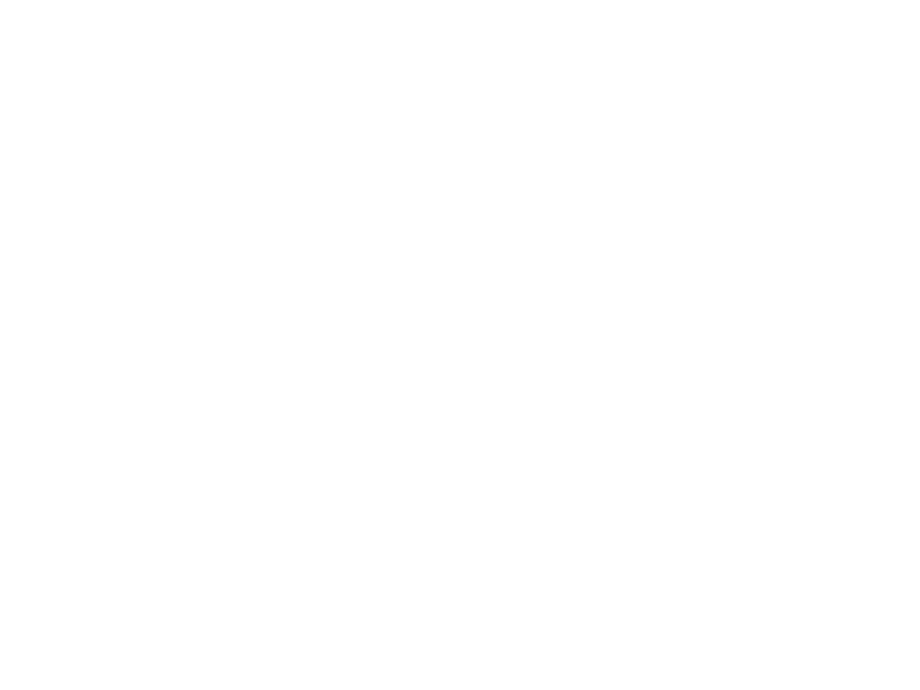
– Есть ли книги или фильмы, которые вы рекомендуете перед поездкой?
– Конечно. Лучше всего – читать автобиографии полярников. Например, Валерий Котляков – выдающийся гляциолог, один из первых, кто предположил существование подлёдных озёр в Антарктиде, в частности, озера Восток. Его исследования читаются как приключенческий роман. Или книга «South» Эрнеста Шеклтона – про экспедицию «Эндьюранс». Или дневники Франклина. Или книги про Нансена и Амундсена. Они не только про открытия. Они про характер. Про силу и слабость. Про то, как человек ведёт себя на грани возможностей. И они очень вдохновляют.
Посмотрите фильмы – о Шеклтоне, Скотте, Амундсене. Не блокбастеры, а документальные. Чтобы понять, какой была цена каждого шага по льду.
Мне нравится открывать людям малоизвестные страницы истории, показывать им дикую красоту полярных регионов. Арктика и Антарктика не повторяются. Ни один лёд не похож на другой. Ни один медведь не появляется по расписанию. Всё живое, меняющееся, дикое – и прекрасное. И если я могу хотя бы одним словом помочь кому-то это почувствовать – значит, я на своём месте!