Лия Покровская – о том, как стать арктическим зоологом
Медведи, пингвины, арктические птицы, километры льда и миллионы вопросов. Лия изучала медведей, песцов и тюленей на Камчатке, на юге Дальнего Востока и на Крайнем Севере, работала гидом на Чукотке, Камчатке и Белом море, ездила студенткой в Антарктику, а сегодня работает гидом на борту экспедиционного судна в Арктике. Мы поговорили с ней о научной работе, поведенческих стратегиях животных и о том, почему наблюдение – это высший уровень уважения к природе.
Как попасть в Арктику через Facebook
– Лия, как вы оказались на этом судне?
– Всё началось с того, что я очень хотела совмещать науку и путешествия. Два года я вела наблюдения за гималайскими медведями в Приморье, затем четыре года – за бурыми на Камчатке.
Позже мы с мужем переехали в Германию. С наукой в России непросто – особенно в моей области. Я по образованию полевой зоолог, занималась поведением крупных хищников, прежде всего медведей. Работы по моей специальности почти нет. Поэтому я подала резюме в разные экспедиционные компании.
– И вас взяли?
– Да, но история особенная. Я наткнулась на пост в Facebook, в группе Jobs at Sea. Экспедиционная компания искала орнитолога. Написала, чтобы хотя бы начать искать работу, – и была уверена, что ничего не выйдет. А через час получила ответ: «Пришлите ещё информацию». Было короткое интервью. Они сказали, что подумают – и через час написали, что берут. Видимо, очень нужен был человек с моим профилем. Так я попала сюда.
– Всё началось с того, что я очень хотела совмещать науку и путешествия. Два года я вела наблюдения за гималайскими медведями в Приморье, затем четыре года – за бурыми на Камчатке.
Позже мы с мужем переехали в Германию. С наукой в России непросто – особенно в моей области. Я по образованию полевой зоолог, занималась поведением крупных хищников, прежде всего медведей. Работы по моей специальности почти нет. Поэтому я подала резюме в разные экспедиционные компании.
– И вас взяли?
– Да, но история особенная. Я наткнулась на пост в Facebook, в группе Jobs at Sea. Экспедиционная компания искала орнитолога. Написала, чтобы хотя бы начать искать работу, – и была уверена, что ничего не выйдет. А через час получила ответ: «Пришлите ещё информацию». Было короткое интервью. Они сказали, что подумают – и через час написали, что берут. Видимо, очень нужен был человек с моим профилем. Так я попала сюда.
Медведи, которых ты знаешь по именам
– Вы упомянули, что изучали поведение медведей.
– Да. Два года я работала с гималайскими медведями, затем четыре года – с бурыми. Мы вели полевые наблюдения на юге Камчатки, где очень высокая плотность этих животных. Это уникальная возможность: ты не просто видишь медведя – ты знаешь, кто он, ведь мы вели наблюдения за одними и теми же особями из года в год. Понимаете, это как в сериале: ты знаешь, как они реагируют друг на друга, как питаются, как общаются.
– Да. Два года я работала с гималайскими медведями, затем четыре года – с бурыми. Мы вели полевые наблюдения на юге Камчатки, где очень высокая плотность этих животных. Это уникальная возможность: ты не просто видишь медведя – ты знаешь, кто он, ведь мы вели наблюдения за одними и теми же особями из года в год. Понимаете, это как в сериале: ты знаешь, как они реагируют друг на друга, как питаются, как общаются.
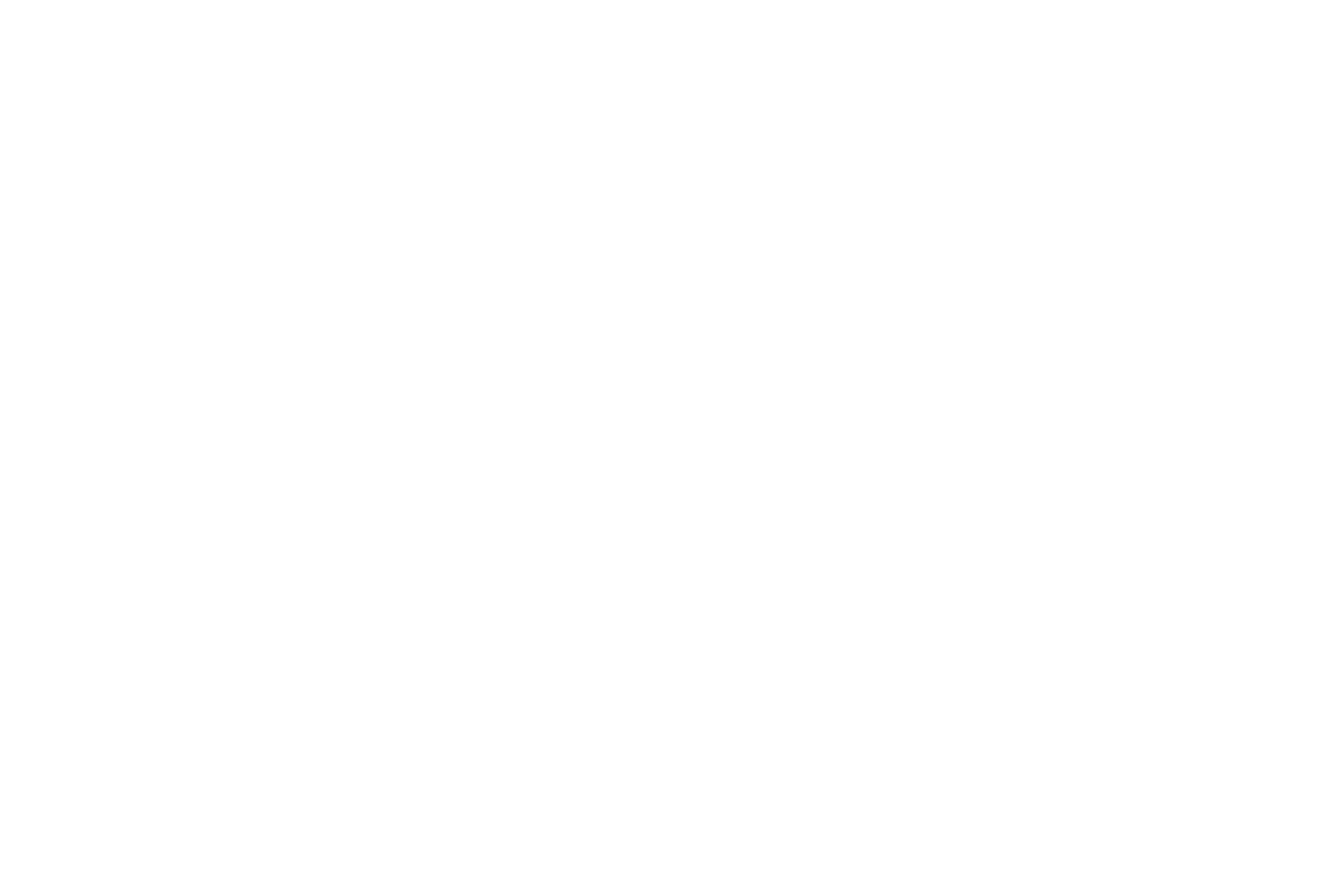
Лия за работой на Камчатке
Медведи с характером
– Такого рода полевые наблюдения - редкость?
– В России – да. Такие долгосрочные исследования с индивидуальной идентификацией медведей практически не велись. А мы это делали. Изучали пищевое поведение, социальное, реакцию на туристов. Потому что туристов было много – и нам было важно понять, как их присутствие влияет на хищников.
– И какие выводы?
– Поведение меняется. Но по-разному. Кто-то привыкает, кто-то уходит. Медведи – индивидуальности. Наша задача – не просто наблюдать, но понять: как они адаптируются, как реагируют на внешний фактор. Это требует терпения – но и даёт невероятное чувство причастности.
– В России – да. Такие долгосрочные исследования с индивидуальной идентификацией медведей практически не велись. А мы это делали. Изучали пищевое поведение, социальное, реакцию на туристов. Потому что туристов было много – и нам было важно понять, как их присутствие влияет на хищников.
– И какие выводы?
– Поведение меняется. Но по-разному. Кто-то привыкает, кто-то уходит. Медведи – индивидуальности. Наша задача – не просто наблюдать, но понять: как они адаптируются, как реагируют на внешний фактор. Это требует терпения – но и даёт невероятное чувство причастности.
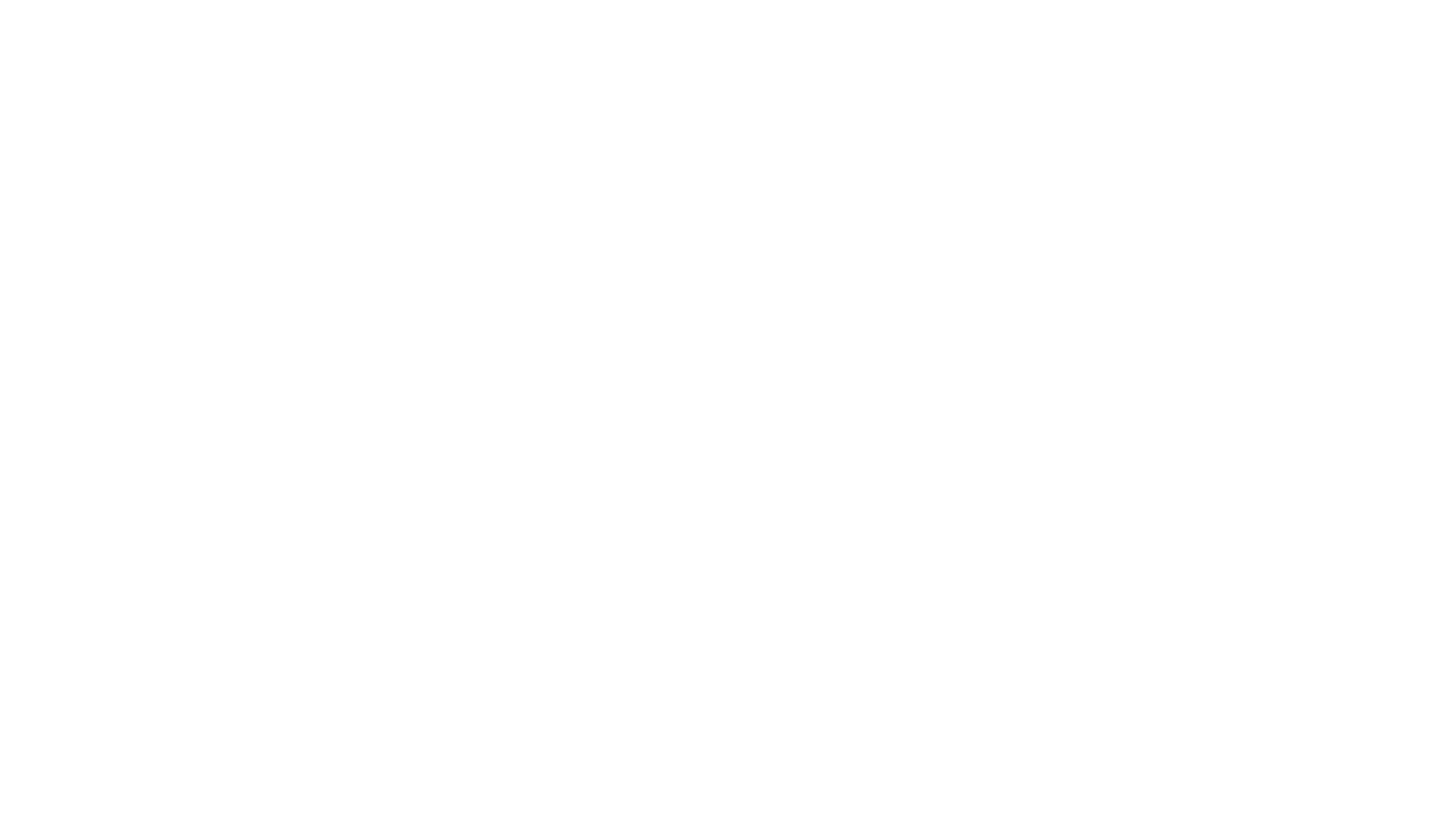
В Германии я устроилась работать техническим ассистентом в институт, занимающийся миграциями птиц и млекопитающих. Но меня тянуло обратно – в поле, к настоящей исследовательской жизни. Я увидела объявление: на экспедиционный корабль срочно нужен орнитолог. Написала – и через час после собеседования получила ответ: «Берём». Вот так и оказалась здесь.
Переезд в Германию и смена формата
– Сейчас вы работаете в научном институте?
– Да, но не как учёный, а как технический ассистент. Это тоже важная работа: мы обрабатываем данные по миграциям птиц. Я помогаю коллегам вносить данные в базы, подготавливаю их для анализа. Это крупный европейский проект, связанный с передатчиками и спутниковым слежением. Участвуют десятки стран.
– Но вам не хватало полевых наблюдений?
– Конечно. Я люблю работать «на земле» – или, точнее, «на льду». Здесь, на борту, есть возможность снова наблюдать. Пусть это не длительное исследование, но такие экспедиции дают шанс увидеть что-то уникальное.
– Да, но не как учёный, а как технический ассистент. Это тоже важная работа: мы обрабатываем данные по миграциям птиц. Я помогаю коллегам вносить данные в базы, подготавливаю их для анализа. Это крупный европейский проект, связанный с передатчиками и спутниковым слежением. Участвуют десятки стран.
– Но вам не хватало полевых наблюдений?
– Конечно. Я люблю работать «на земле» – или, точнее, «на льду». Здесь, на борту, есть возможность снова наблюдать. Пусть это не длительное исследование, но такие экспедиции дают шанс увидеть что-то уникальное.
Когда 200 медведей едят одного кита
– Вы говорили, что даже короткие наблюдения в экспедициях могут быть важными.
– Абсолютно. У нас был случай – не я лично видела, но коллеги, которые шли на корабле после нас, – когда 200 белых медведей одновременно питались на туше мёртвого кита. Это было на острове Врангеля. Они не конфликтовали. Все вместе ели. Это теперь задокументированный факт. Такое поведение не описано ни в одном учебнике, а коллеги смогли описать подробно, чтобы наука знала, что такое возможно.
– Почему это важно?
– Потому что это редкие поведенческие сценарии. Это не лаборатория – это реальность. Иногда один короткий эпизод даёт больше, чем месяц стандартных наблюдений. Именно такие экспедиции ценны: ты можешь случайно наткнуться на феномен, которого никто не видел.
– А сами вы делали записи, фото, материалы?
– Конечно. У нас с собой всегда бинокли, камеры, GPS. И хотя это не академическое исследование в полном смысле, но мы фиксируем всё, ведем путевые заметки. А иногда даже публикуем их, как короткие научные сообщения. Это тоже вклад в науку, пусть скромный, но важный тем, что наблюдения проводятся в естественной для животных и птиц среде.
– Абсолютно. У нас был случай – не я лично видела, но коллеги, которые шли на корабле после нас, – когда 200 белых медведей одновременно питались на туше мёртвого кита. Это было на острове Врангеля. Они не конфликтовали. Все вместе ели. Это теперь задокументированный факт. Такое поведение не описано ни в одном учебнике, а коллеги смогли описать подробно, чтобы наука знала, что такое возможно.
– Почему это важно?
– Потому что это редкие поведенческие сценарии. Это не лаборатория – это реальность. Иногда один короткий эпизод даёт больше, чем месяц стандартных наблюдений. Именно такие экспедиции ценны: ты можешь случайно наткнуться на феномен, которого никто не видел.
– А сами вы делали записи, фото, материалы?
– Конечно. У нас с собой всегда бинокли, камеры, GPS. И хотя это не академическое исследование в полном смысле, но мы фиксируем всё, ведем путевые заметки. А иногда даже публикуем их, как короткие научные сообщения. Это тоже вклад в науку, пусть скромный, но важный тем, что наблюдения проводятся в естественной для животных и птиц среде.
Лекция о птицах Арктики
В своих лекциях Лия с теплотой и увлечением рассказывает о пернатых обитателях самого сурового региона планеты — Арктики. Она делится уникальными фактами о видах, которых можно встретить в районе Шпицбергена: от редчайшей белой чайки, следящей за полярными медведями, до крикливой моевки, селящейся в огромных колониях на скалах. Если вы окажетесь в Арктике и прослушаете лекции Лии, вы узнаете:
– Почему морская птица глупыш называется «рыбой с характером»
– Как отличить вторую по величине чайку Арктики — бургомистра
– Кто и зачем живёт бок о бок с хищниками
– Почему всего 4 вида составляют 95% птичьего населения Шпицбергена
– Как морские, прибрежные и хищные птицы распределяют экологические ниши
Лия помогает нам понять, как в арктических условиях выживает каждый вид — и почему стоит защищать даже самых, казалось бы, обычных.
– Почему морская птица глупыш называется «рыбой с характером»
– Как отличить вторую по величине чайку Арктики — бургомистра
– Кто и зачем живёт бок о бок с хищниками
– Почему всего 4 вида составляют 95% птичьего населения Шпицбергена
– Как морские, прибрежные и хищные птицы распределяют экологические ниши
Лия помогает нам понять, как в арктических условиях выживает каждый вид — и почему стоит защищать даже самых, казалось бы, обычных.
Уникальные встречи
– Лия, вы рассказывали о фиксации хвостов китов. Это часть научного проекта?
– Да. Мы фотографируем хвосты горбатых китов – у них нижняя часть уникальна, как отпечаток пальца. Снимок мы загружаем в базу Happy Whale, это международный проект Citizen Science. Он позволяет отслеживать миграции китов: где они уже были, сколько раз их видели, как далеко они перемещаются.
– И вы это делаете вместе с гостями?
– Конечно. Мы стараемся их вовлекать: наблюдать, фиксировать, обсуждать. Гостям интересно, когда они понимают, что это не просто экскурсия – они становятся участниками настоящих научных исследований. Это воспитывает совсем другое отношение к природе.
– Что ещё входит в ваши наблюдения?
– Мы ведём учёт птиц по маршруту движения судна: какие виды, в каком количестве, где видели. Особенно это важно там, где учёные бывают редко. Например, при прохождении по кромке пакового льда. Иногда фиксируем появления нехарактерных для этой широты видов – это важно для понимания изменений климата.
– Да. Мы фотографируем хвосты горбатых китов – у них нижняя часть уникальна, как отпечаток пальца. Снимок мы загружаем в базу Happy Whale, это международный проект Citizen Science. Он позволяет отслеживать миграции китов: где они уже были, сколько раз их видели, как далеко они перемещаются.
– И вы это делаете вместе с гостями?
– Конечно. Мы стараемся их вовлекать: наблюдать, фиксировать, обсуждать. Гостям интересно, когда они понимают, что это не просто экскурсия – они становятся участниками настоящих научных исследований. Это воспитывает совсем другое отношение к природе.
– Что ещё входит в ваши наблюдения?
– Мы ведём учёт птиц по маршруту движения судна: какие виды, в каком количестве, где видели. Особенно это важно там, где учёные бывают редко. Например, при прохождении по кромке пакового льда. Иногда фиксируем появления нехарактерных для этой широты видов – это важно для понимания изменений климата.
Арктика меняется. И это видно
– Что вы замечаете в поведении птиц в связи с потеплением?
– Очень многое. Субарктические виды поднимаются севернее и вытесняют местных. А местные – узкоспециализированные. Те, кто жил тысячелетиями в условиях короткого лета, вечного льда, охоты на конкретные виды, – не справляются с конкуренцией. У генералистов шире экологическая ниша, они просто выживают эффективнее.
– Пример?
– Например, песец и лисица. Лиса крупнее, универсальнее, агрессивнее. Она просто занимает территорию песца – ест его потомство, отнимает у него норы, ресурсы. В Норвегии даже ввели программу по сохранению песца: стали истреблять лису, чтобы спасти более уязвимый вид животных.
То же самое происходит и с птицами. Более «гибкие» виды вытесняют арктических.
– А как это сочетается с их привычкой возвращаться в одно и то же место?
– В этом и трагедия. Импринтинг – механизм, по которому птица запоминает место рождения. Она стремится вернуться. Но если условий для размножения там больше нет, они вынуждены адаптироваться. Многие виды пролетают, смотрят на условия: снег сошёл? Есть ли корм? – и, если нет, летят дальше. Но не все могут себе это позволить. Хищники ещё могут выбирать, а другие птицы – нет.
– Очень многое. Субарктические виды поднимаются севернее и вытесняют местных. А местные – узкоспециализированные. Те, кто жил тысячелетиями в условиях короткого лета, вечного льда, охоты на конкретные виды, – не справляются с конкуренцией. У генералистов шире экологическая ниша, они просто выживают эффективнее.
– Пример?
– Например, песец и лисица. Лиса крупнее, универсальнее, агрессивнее. Она просто занимает территорию песца – ест его потомство, отнимает у него норы, ресурсы. В Норвегии даже ввели программу по сохранению песца: стали истреблять лису, чтобы спасти более уязвимый вид животных.
То же самое происходит и с птицами. Более «гибкие» виды вытесняют арктических.
– А как это сочетается с их привычкой возвращаться в одно и то же место?
– В этом и трагедия. Импринтинг – механизм, по которому птица запоминает место рождения. Она стремится вернуться. Но если условий для размножения там больше нет, они вынуждены адаптироваться. Многие виды пролетают, смотрят на условия: снег сошёл? Есть ли корм? – и, если нет, летят дальше. Но не все могут себе это позволить. Хищники ещё могут выбирать, а другие птицы – нет.
Импринтинг, память и география
– Каким образом птицы находят тот самый камень или скалу, где гнездились год назад?
– Это до конца не изучено. Есть гипотезы: по запаху, по визуальным ориентирам, по магнитному полю. У птиц отличное зрение. У некоторых – обоняние. И они действительно запоминают нюансы. Это называется хоминг – возврат к месту гнездования. А филопатрия – возврат к месту рождения.
Есть альбатросы, которые десятилетиями возвращаются на одну и ту же скалу. У буревестников, кайр – то же самое. Даже чайки. Это – память поколения. Она передаётся. Это потрясающе.
– Это до конца не изучено. Есть гипотезы: по запаху, по визуальным ориентирам, по магнитному полю. У птиц отличное зрение. У некоторых – обоняние. И они действительно запоминают нюансы. Это называется хоминг – возврат к месту гнездования. А филопатрия – возврат к месту рождения.
Есть альбатросы, которые десятилетиями возвращаются на одну и ту же скалу. У буревестников, кайр – то же самое. Даже чайки. Это – память поколения. Она передаётся. Это потрясающе.
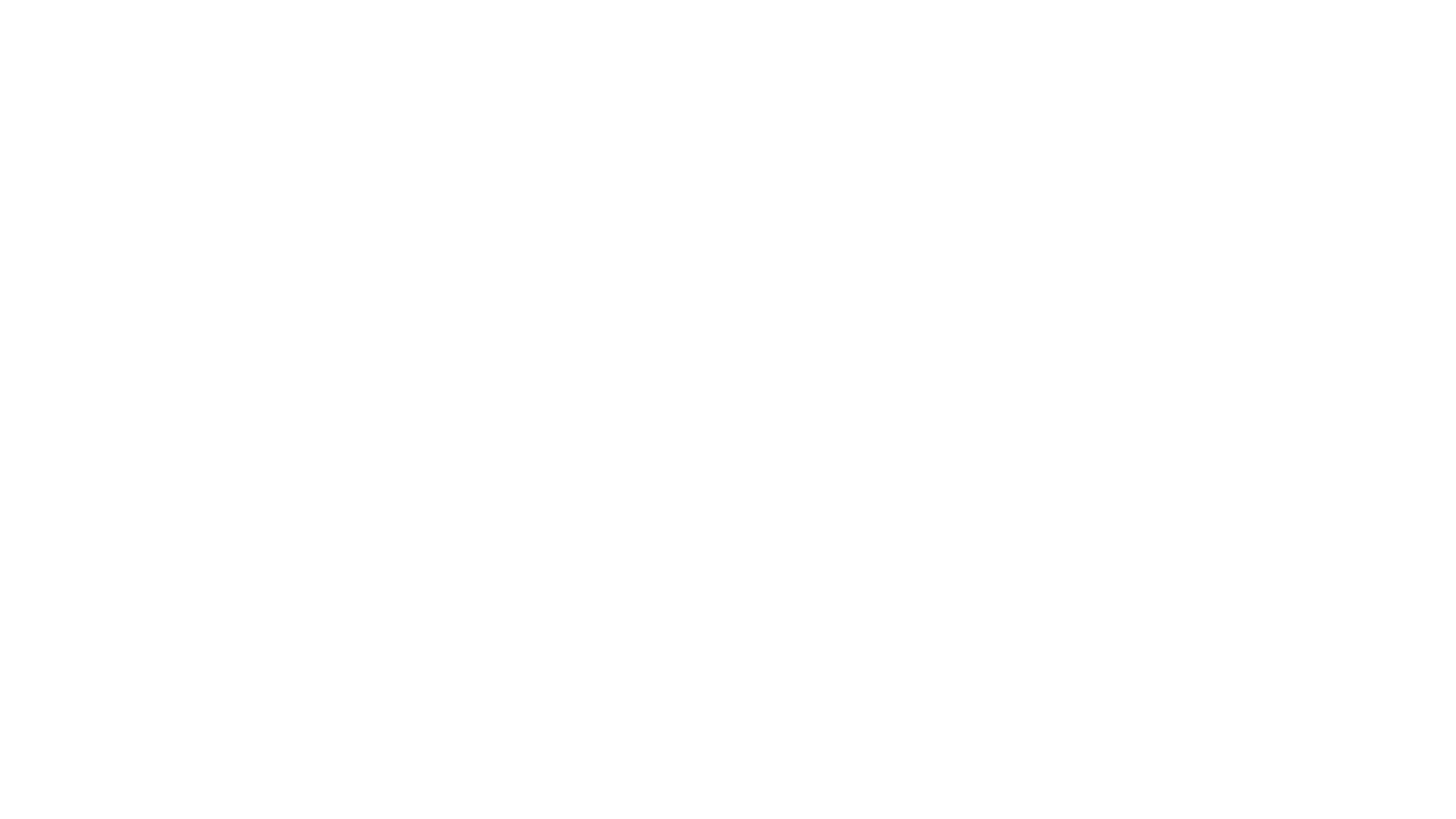
Эта птица каждый год растит птенцов на этом камне
О птицах-отцах, миграциях и пластике
– Кто из птиц в Арктике ведет себя наиболее необычно?
– Кулики. У них – полеандрия: самка спаривается с несколькими самцами, и каждый самец по очереди высиживает яйца и выращивает птенцов. Также у кайр – у них отец прыгает со скалы с птенцом, чтобы научить его плавать. И остается на пару месяцев, пока малыш не освоится. Самки в это время уже далеко.
– Птицам удалось адаптироваться за последние сто лет к влиянию человеческого фактора?
– Они меняют маршруты. Например, гуси, которых много стреляли, теперь избегают тех территорий, где велик охотничий пресс. Они изменили пути миграции, летают другим маршрутом – это зафиксировано.
– Но это всё ещё и на фоне проблем с экологией…
– Конечно. Пластик находят в желудках почти всех морских птиц. Рыболовные сети – вокруг шей котиков и тюленей. Эти петли врезаются в тело, и животное умирает медленно, если никто не поможет. Особенно это относится к самцам, у которых шея растёт. Самки тоже страдают, но могут выживать с петлей на шее, а вот самцы погибают.
Когда мы работали с котиками, мы видели их с пластиковыми ошейниками. Сами их ловили и освобождали. Но это единичные случаи, только тем повезло, кого неравнодушные люди увидели и поймали. Небольшая часть популяции, а в целом – это огромная трагедия.
– Кулики. У них – полеандрия: самка спаривается с несколькими самцами, и каждый самец по очереди высиживает яйца и выращивает птенцов. Также у кайр – у них отец прыгает со скалы с птенцом, чтобы научить его плавать. И остается на пару месяцев, пока малыш не освоится. Самки в это время уже далеко.
– Птицам удалось адаптироваться за последние сто лет к влиянию человеческого фактора?
– Они меняют маршруты. Например, гуси, которых много стреляли, теперь избегают тех территорий, где велик охотничий пресс. Они изменили пути миграции, летают другим маршрутом – это зафиксировано.
– Но это всё ещё и на фоне проблем с экологией…
– Конечно. Пластик находят в желудках почти всех морских птиц. Рыболовные сети – вокруг шей котиков и тюленей. Эти петли врезаются в тело, и животное умирает медленно, если никто не поможет. Особенно это относится к самцам, у которых шея растёт. Самки тоже страдают, но могут выживать с петлей на шее, а вот самцы погибают.
Когда мы работали с котиками, мы видели их с пластиковыми ошейниками. Сами их ловили и освобождали. Но это единичные случаи, только тем повезло, кого неравнодушные люди увидели и поймали. Небольшая часть популяции, а в целом – это огромная трагедия.
«После Арктики – никто не пойдёт в дельфинарий»
– Вы говорили о важности пересмотра отношения к дельфинариям.
– Да. Эти экспедиции, мне кажется, очень многое меняют в людях. Когда ты видел кита в природе – ты не можешь потом смотреть на них в хлорированной воде. Я надеюсь, что никто из наших гостей не поведёт детей в дельфинарий.
Косатки, белухи, дельфины – это не артисты. Они страдают. Гибнут при отлове, при транспортировке. И даже если внешне всё «в порядке», случаи агрессии, смерти тренеров, колоссального стресса животных – всё это происходит постоянно. Это не развлечение. Это система насилия.
Я думаю, такие круизы – шанс что-то изменить. Даже если не в мире, то в человеке. И это уже много.
– Да. Эти экспедиции, мне кажется, очень многое меняют в людях. Когда ты видел кита в природе – ты не можешь потом смотреть на них в хлорированной воде. Я надеюсь, что никто из наших гостей не поведёт детей в дельфинарий.
Косатки, белухи, дельфины – это не артисты. Они страдают. Гибнут при отлове, при транспортировке. И даже если внешне всё «в порядке», случаи агрессии, смерти тренеров, колоссального стресса животных – всё это происходит постоянно. Это не развлечение. Это система насилия.
Я думаю, такие круизы – шанс что-то изменить. Даже если не в мире, то в человеке. И это уже много.
Что важно увидеть каждому?
– Что вы посоветуете тем, кто впервые попал в Арктику?
– Не ждите, что кто-то скажет: «Смотрите влево – там кит». Просто выходите на палубу. Часто. Смотрите. Погода ясная – почти наверняка увидите: фонтан, плавник, хвост. И держите бинокль рядом.
– Не ждите, что кто-то скажет: «Смотрите влево – там кит». Просто выходите на палубу. Часто. Смотрите. Погода ясная – почти наверняка увидите: фонтан, плавник, хвост. И держите бинокль рядом.
Фото из архива Лии
Бурые медведи Камчатки (Курильское озеро)